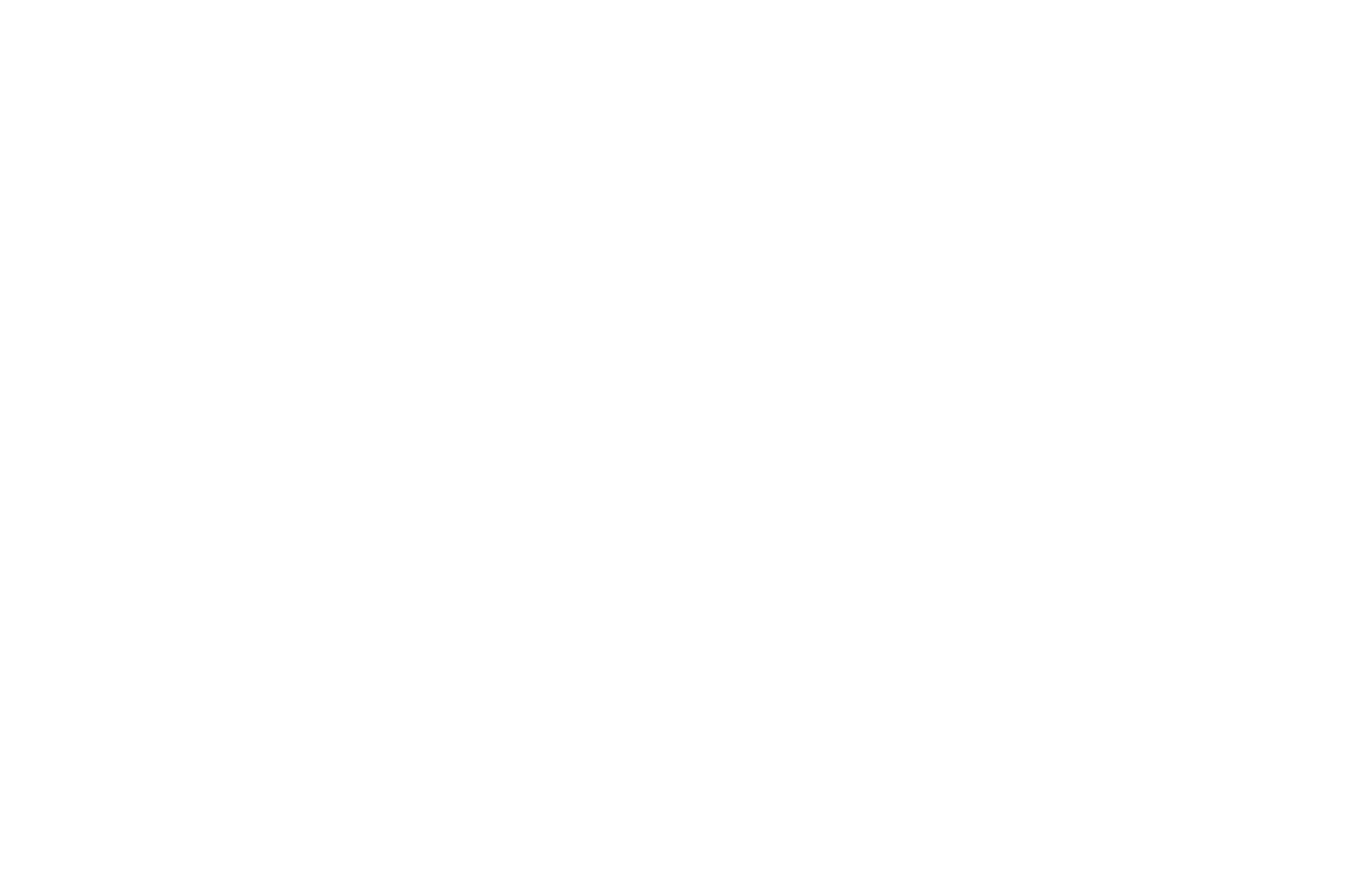От кабины Ан-24 до архивов XVIII века: история пилота, который налетал миллионы километров и нашел тысячи предков своей семьи
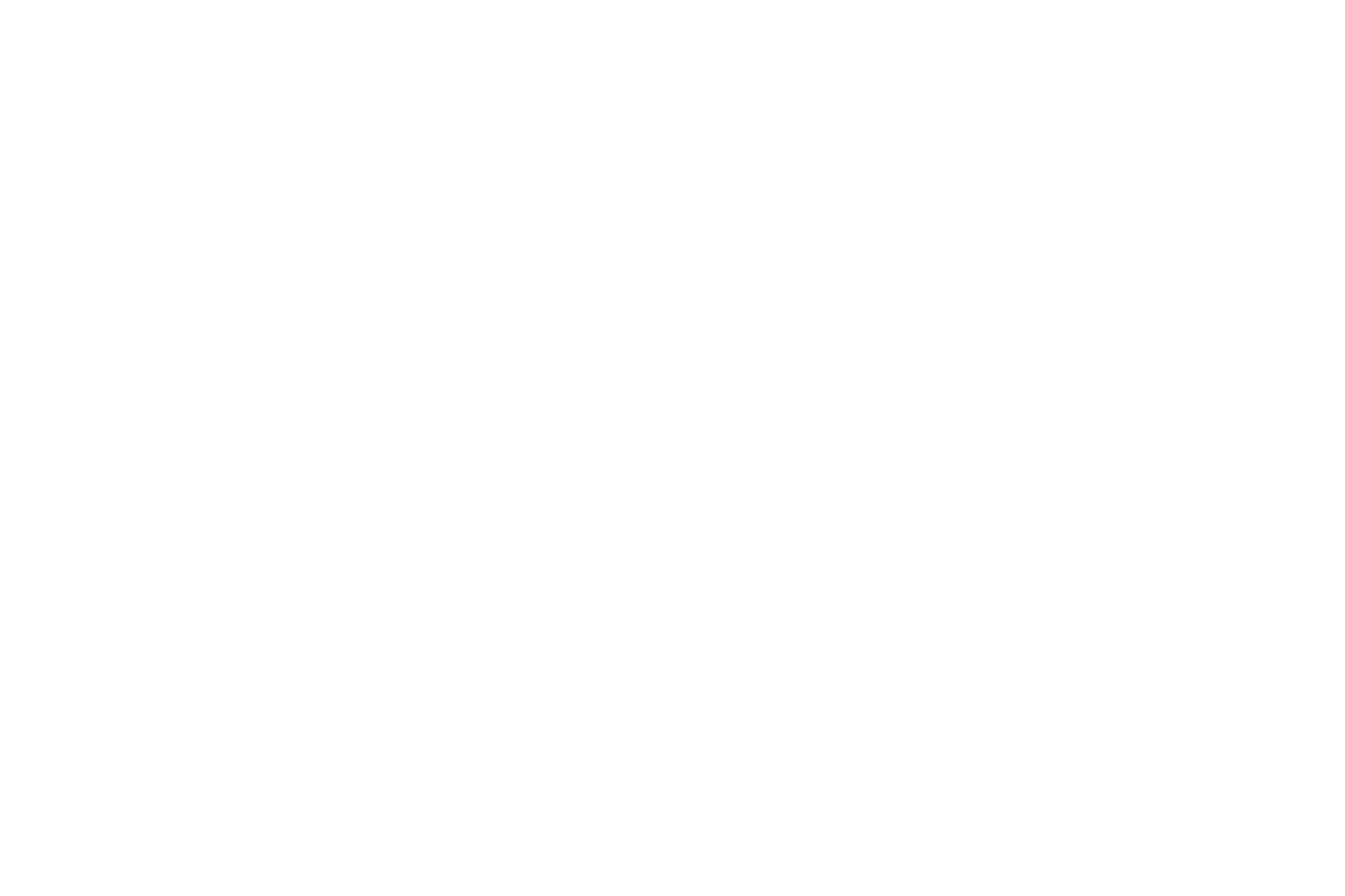
В его жизни были и Ан-24, и Ту-154 с Ил-86, и ревизские сказки XVIII века. Александр Зиновьев, заместитель генерального директора «Уральских авиалиний», в бытность пилотом налетал тысячи часов, пережил нештатные ситуации в небе, возглавлял Центр управления полетами, а теперь тратит не меньше энергии на путешествия во времени — в поисках документов, фамилий и истории своей семьи.
Чойс продолжает рассказывать истории сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии» — людей, которые не только блестяще выполнят свою работу, организовывая полеты, но и имеют интересное хобби: увлекаются авиамоделизмом, горными лыжами, занимаются тайским боксом, танцуют бачату, ныряют на морское дно и рыбачат в тайге.
Как стать командиром дальнемагистрального самолета в 29 лет, а потом, покинув кабину, найти новое призвание, собрать историю родного поселка и издать книгу — рассказываем от первого лица.
Чойс продолжает рассказывать истории сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии» — людей, которые не только блестяще выполнят свою работу, организовывая полеты, но и имеют интересное хобби: увлекаются авиамоделизмом, горными лыжами, занимаются тайским боксом, танцуют бачату, ныряют на морское дно и рыбачат в тайге.
Как стать командиром дальнемагистрального самолета в 29 лет, а потом, покинув кабину, найти новое призвание, собрать историю родного поселка и издать книгу — рассказываем от первого лица.
Александр Зиновьев
заместитель генерального директора — директор по производству «Уральских авиалиний»
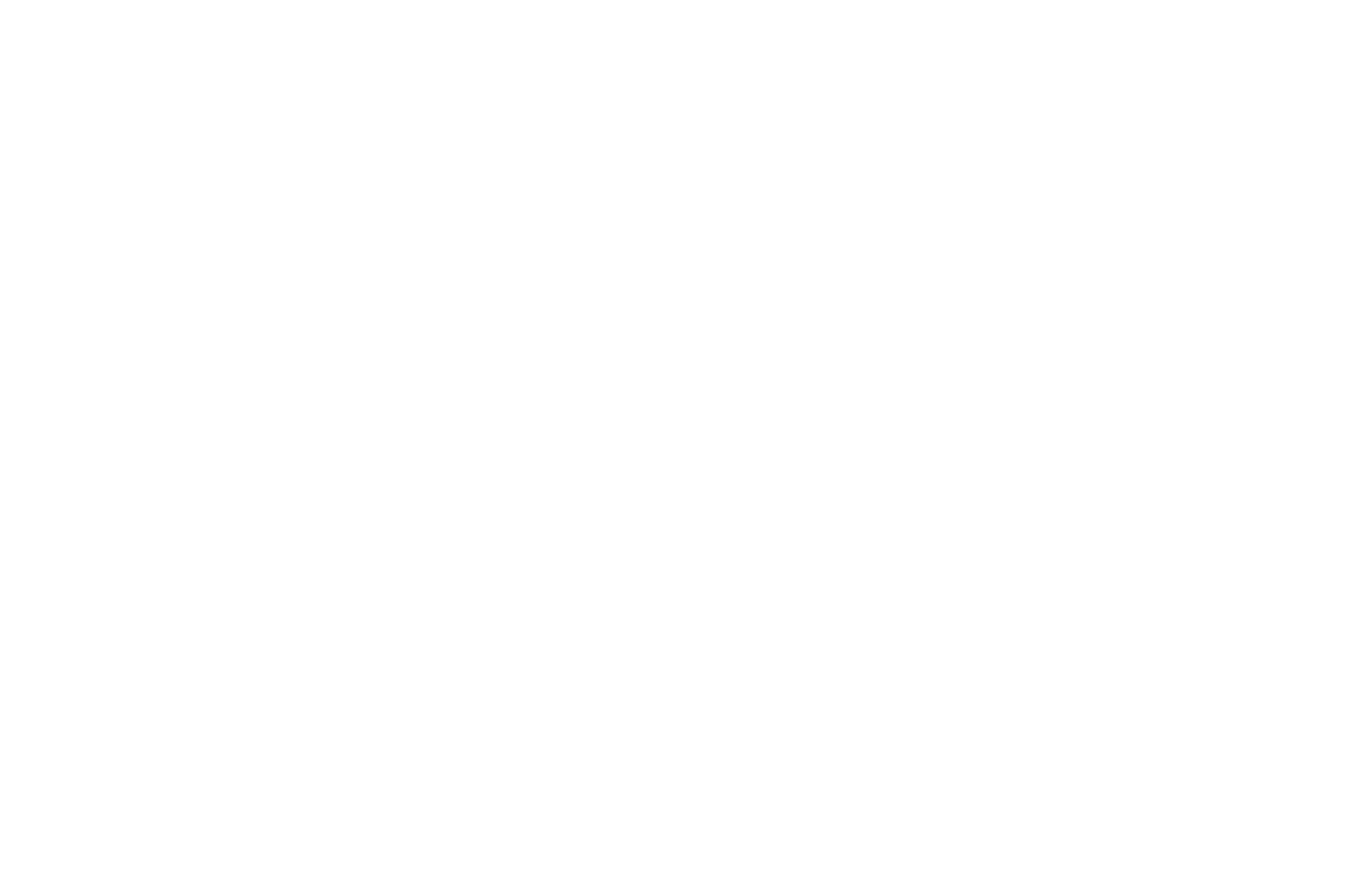
Как выбрал небо
В моей семье были пилоты: у мамы двоюродный брат, по отцовской линии тоже военные летчики. Но в детстве я о небе не мечтал, хоть их истории и были захватывающими. Все изменилось в седьмом классе, когда в школу приехал выпускник Рижского института инженеров гражданской авиации — в синей форме с погонами — он выглядел так, что невозможно было оторвать глаз. В Рижском институте готовили инженеров, экономистов, наземный технический состав, но не пилотов. Тогда информации было мало, и каждая крупица цепляла.
В те же годы на экраны вышел фильм «Экипаж». Посмотрев его, я понял, каким хочу быть: ответственным, мужественным, готовым увидеть мир. Начал искать, где готовят пилотов. В газете «Уральский рабочий» увидел объявление о наборе в Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации. В СССР тогда было всего два таких высших училища: в Актюбинске — пилоты, в Кировограде — штурманы и небольшой факультет пилотов.
В те же годы на экраны вышел фильм «Экипаж». Посмотрев его, я понял, каким хочу быть: ответственным, мужественным, готовым увидеть мир. Начал искать, где готовят пилотов. В газете «Уральский рабочий» увидел объявление о наборе в Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации. В СССР тогда было всего два таких высших училища: в Актюбинске — пилоты, в Кировограде — штурманы и небольшой факультет пилотов.
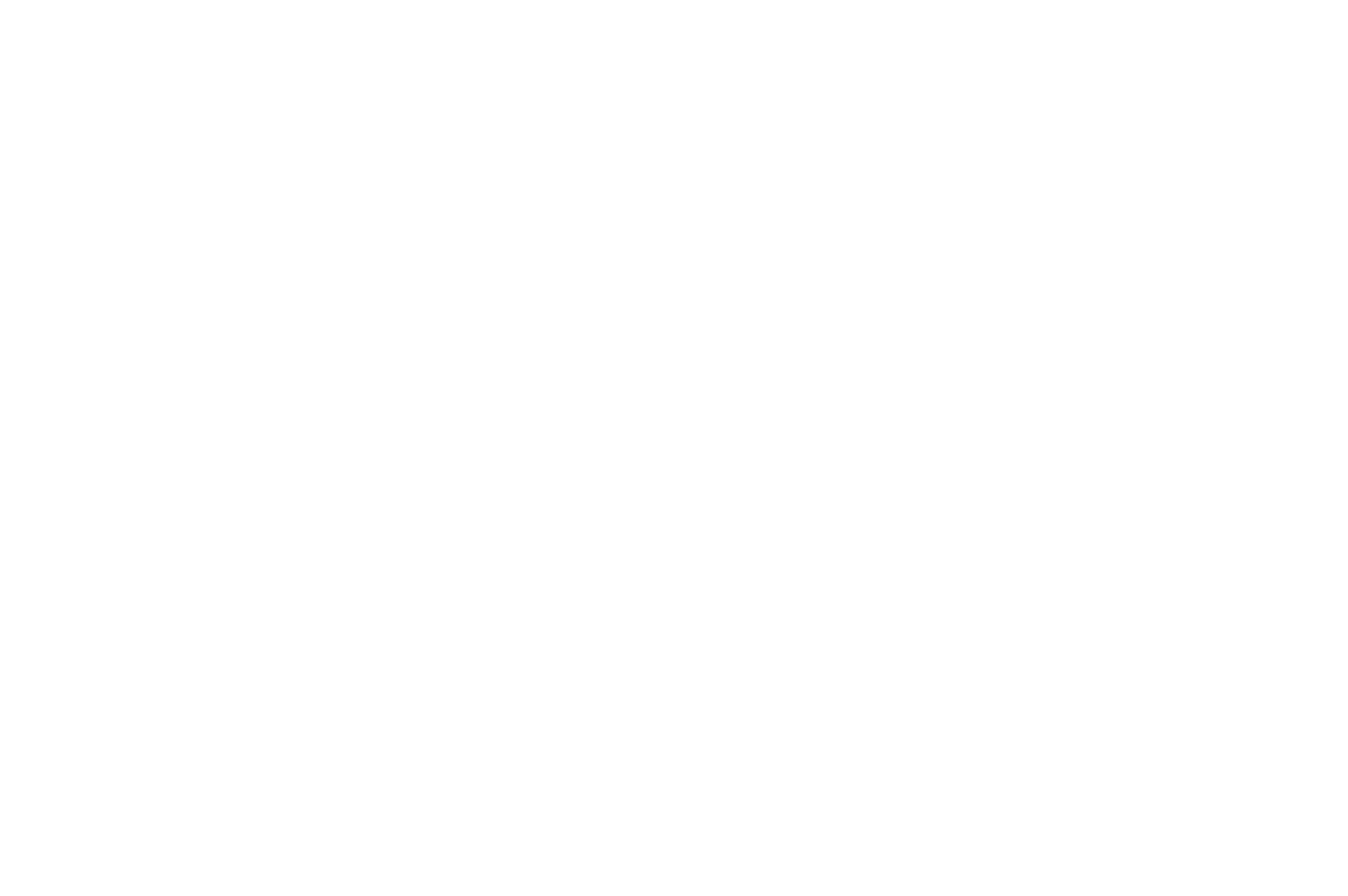
В летные училища всегда был высокий конкурс: после прохождения медкомиссии, физподготовки, психологических тестов конкурс на экзаменах — три человека на место. Я поставил себе цель и поступил с первой попытки. Оказалось, училище почти полувоенное: нас, молодых курсантов, побрили налысо, выход в город разрешали по увольнительным, жили строго по уставу. Из 300 курсантов до выпуска дошли 216.
Мой первый полет в качестве пассажира был на Як-40, когда летел в Актюбинск, уже зачисленный на первый курс училища. До этого летать не доводилось: родители всегда выбирали поезд. Впечатления от полета были сильные, я потом писал об этом родителям в письмах.
Мой первый полет в качестве пассажира был на Як-40, когда летел в Актюбинск, уже зачисленный на первый курс училища. До этого летать не доводилось: родители всегда выбирали поезд. Впечатления от полета были сильные, я потом писал об этом родителям в письмах.
По распределению после окончания попал в Курган, летал на Ан-24 и Ан-26. В 1991-м перевелся в Свердловск на Ту-154, в 29 лет стал командиром воздушного судна, позже — пилотом-инструктором. В 1992 году несколько пилотов, штурманов, бортинженеров направили в Центральное управление международных воздушных сообщений в Шереметьево: мы там стажировались, чтобы летать за границу. Через несколько месяцев управление реорганизовали — на его базе работает нынешний «Аэрофлот».
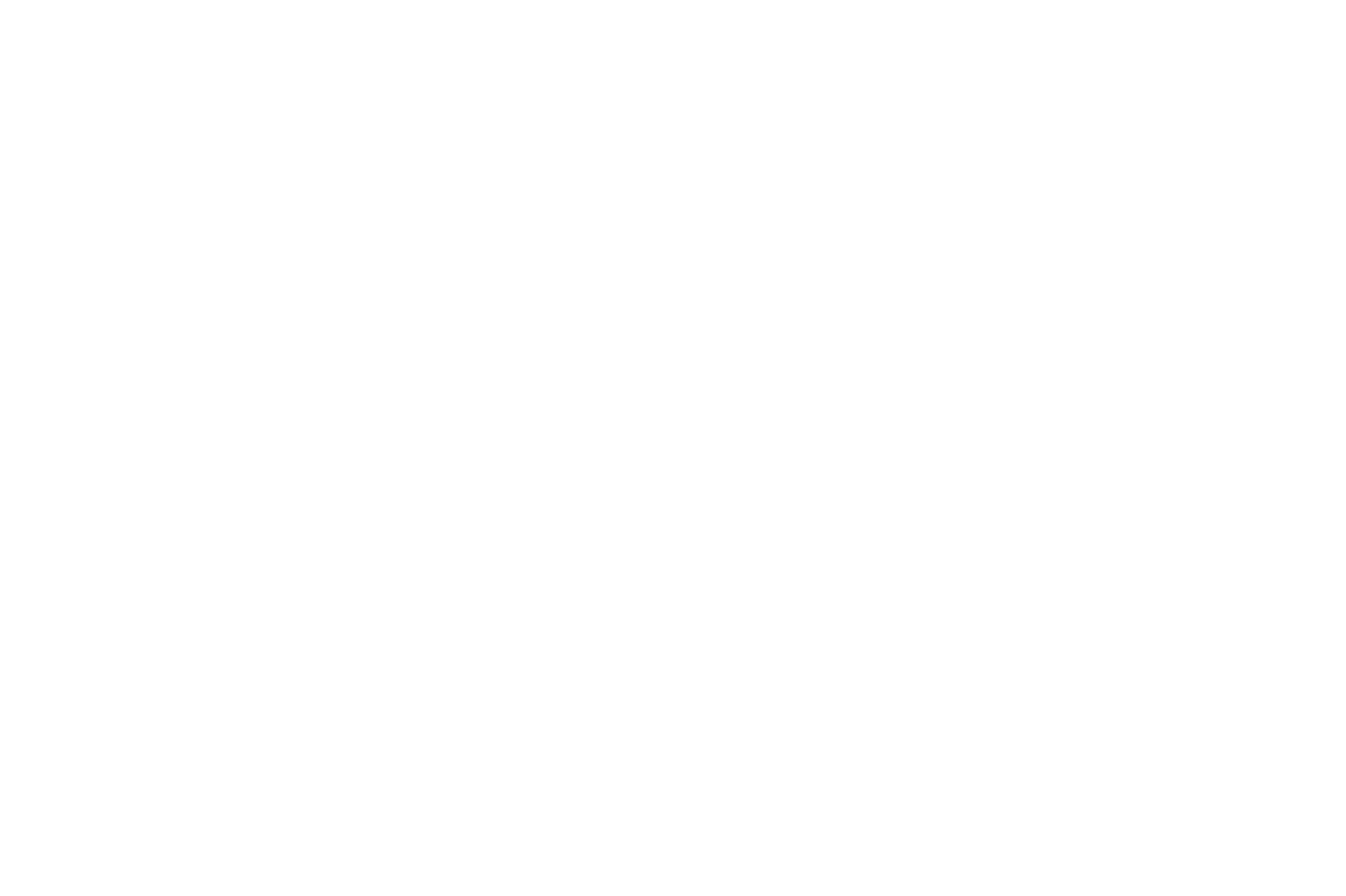
«Лететь впереди самолета»
У каждого пилота случаются нештатные ситуации. Одна из них у меня была на Ту-154. Мы взлетали из Худжанда, пилотировал второй пилот, и на скорости около 200−220 километров в час загорелась красная лампа «К взлету не готов». Сирeна молчит — значит, не пожар. За секунды принял решение прекратить взлет. Полоса там горбатая, конца ее не видно, но мы успели остановиться. Впоследствии оказалось, отошел датчик двери. В такие моменты время растягивается, и решение нужно принимать грамотно и точно.
Пилот должен быть с отменным здоровьем и психологически устойчив, важны кругозор и знание матчасти: пилот — не просто оператор, он должен понимать, что происходит с самолетом при каждом действии. Но главное качество — ответственность: за людей, которые сидят за твоей спиной. Дисциплина — закон, но иногда нужно мыслить нестандартно и всегда «лететь впереди самолета»: просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед.
Пилот должен быть с отменным здоровьем и психологически устойчив, важны кругозор и знание матчасти: пилот — не просто оператор, он должен понимать, что происходит с самолетом при каждом действии. Но главное качество — ответственность: за людей, которые сидят за твоей спиной. Дисциплина — закон, но иногда нужно мыслить нестандартно и всегда «лететь впереди самолета»: просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед.
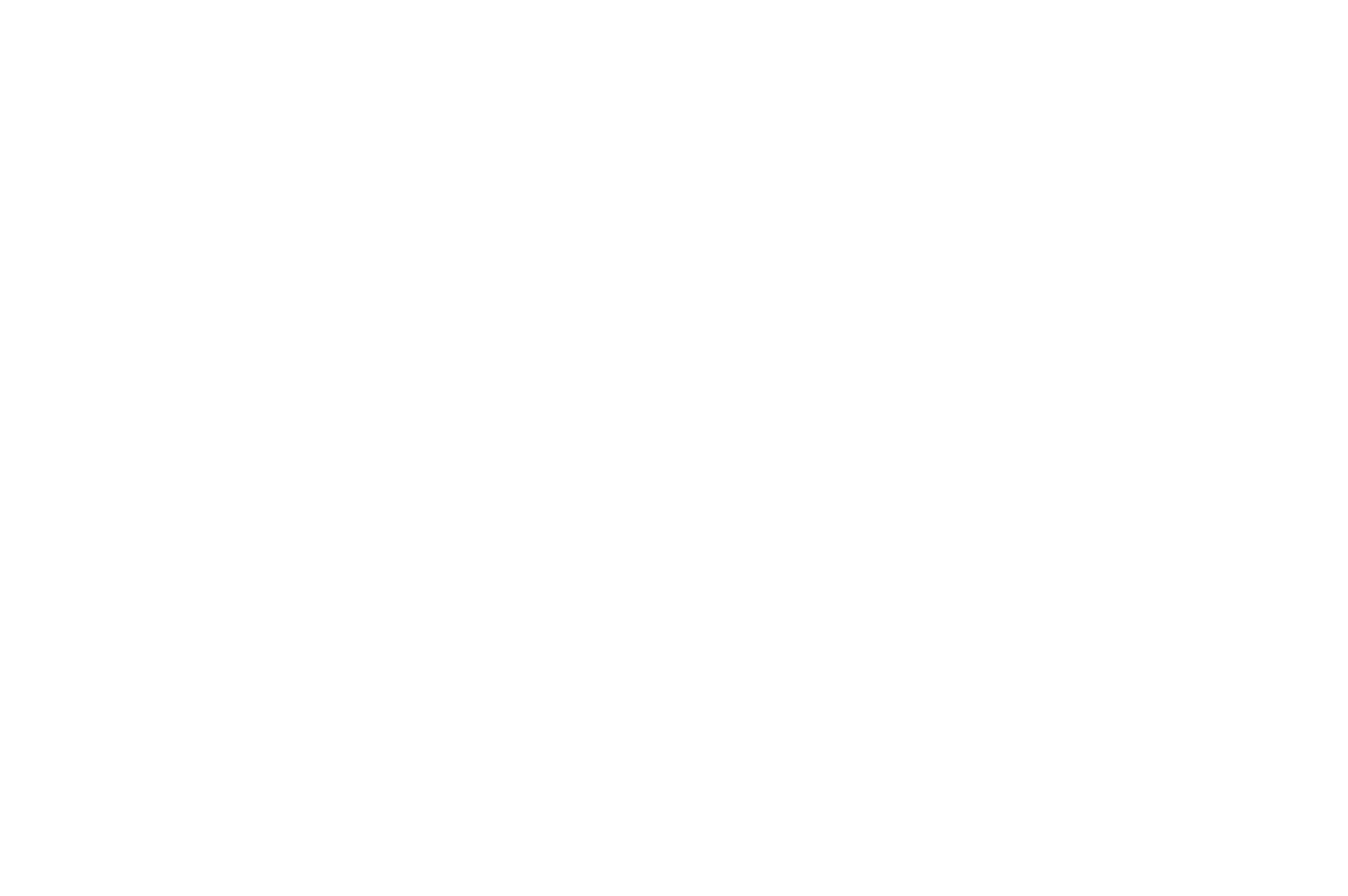
Как работает небо с земли
Всего провел в небе 19 лет, работал на Ан-24, Ан-26, Ту-154 и Ил-86. Когда понял, что списание по здоровью неизбежно, принял это спокойно. После ухода занимался бизнес-авиацией и организовывал чартеры.
В 2008 году мне предложили возглавить создающийся Центр управления полетами (ЦУП). После собеседования я приступил к формированию структуры и подбору команды. Проработал в ЦУПе семь лет. В 2015 году стал заместителем генерального директора — директором по производству «Уральских авиалиний».
В 2008 году мне предложили возглавить создающийся Центр управления полетами (ЦУП). После собеседования я приступил к формированию структуры и подбору команды. Проработал в ЦУПе семь лет. В 2015 году стал заместителем генерального директора — директором по производству «Уральских авиалиний».
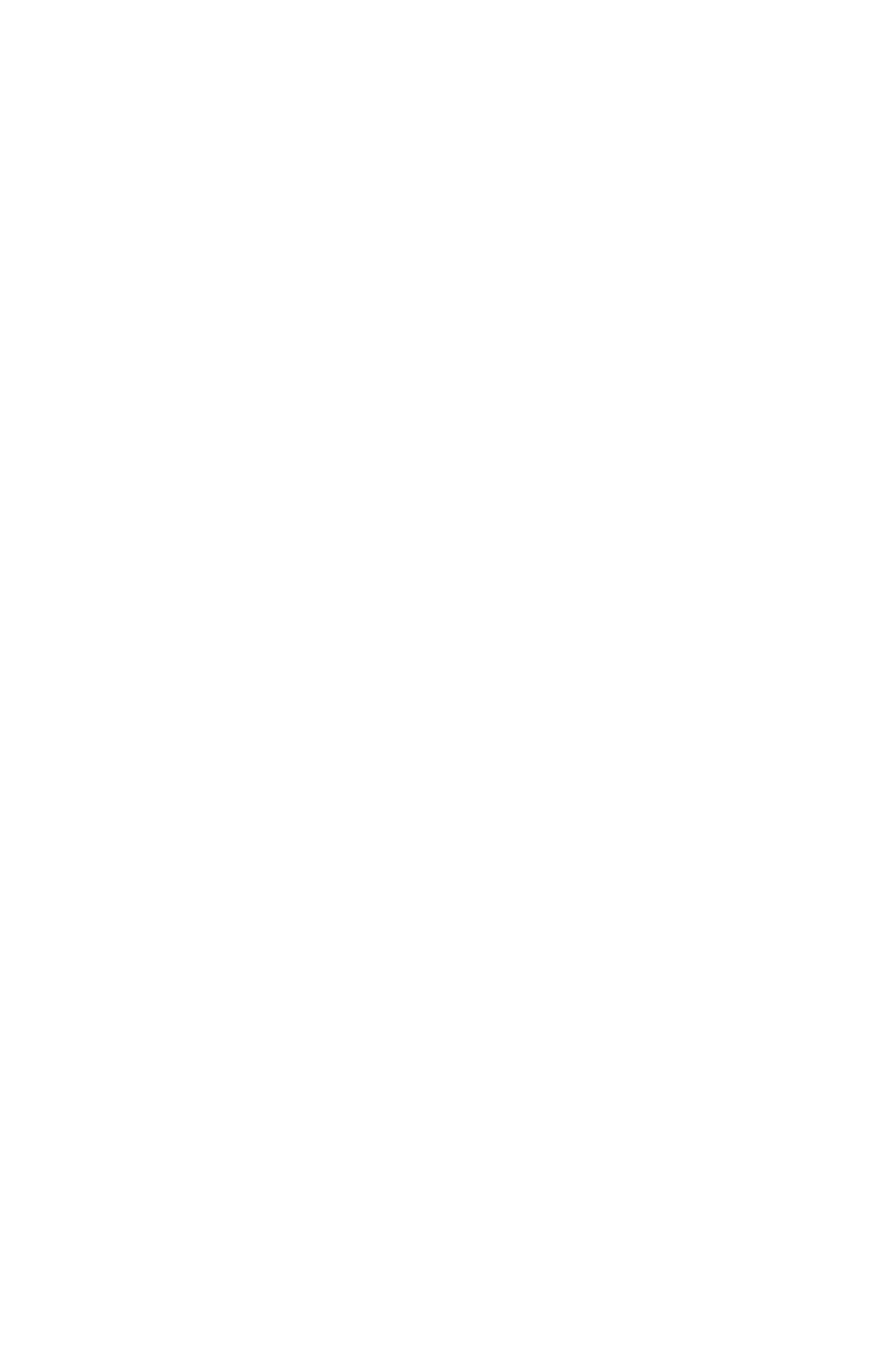
Сейчас я отвечаю за общее производство: от подготовки самолетов к рейсам и контроля их выполнения до работы представительств — их больше сотни. Чтобы самолет отправился в рейс, нужно провести большую подготовительную работу: запросить слоты у аэропортов, согласовать время и маршруты, получить разрешения и аккредитации, заключить договоры на наземное обслуживание и ГСМ. Производственный департамент также координирует работу служб и подразделений авиакомпании, разрешает сбойные и кризисные ситуации.
В авиации я с 1987 года и отлично знаю все процессы изнутри. Для меня взаимодействие служб — это как дважды два, а летный опыт помогает видеть картину целиком и управлять ею без лишних слов.
В авиации я с 1987 года и отлично знаю все процессы изнутри. Для меня взаимодействие служб — это как дважды два, а летный опыт помогает видеть картину целиком и управлять ею без лишних слов.
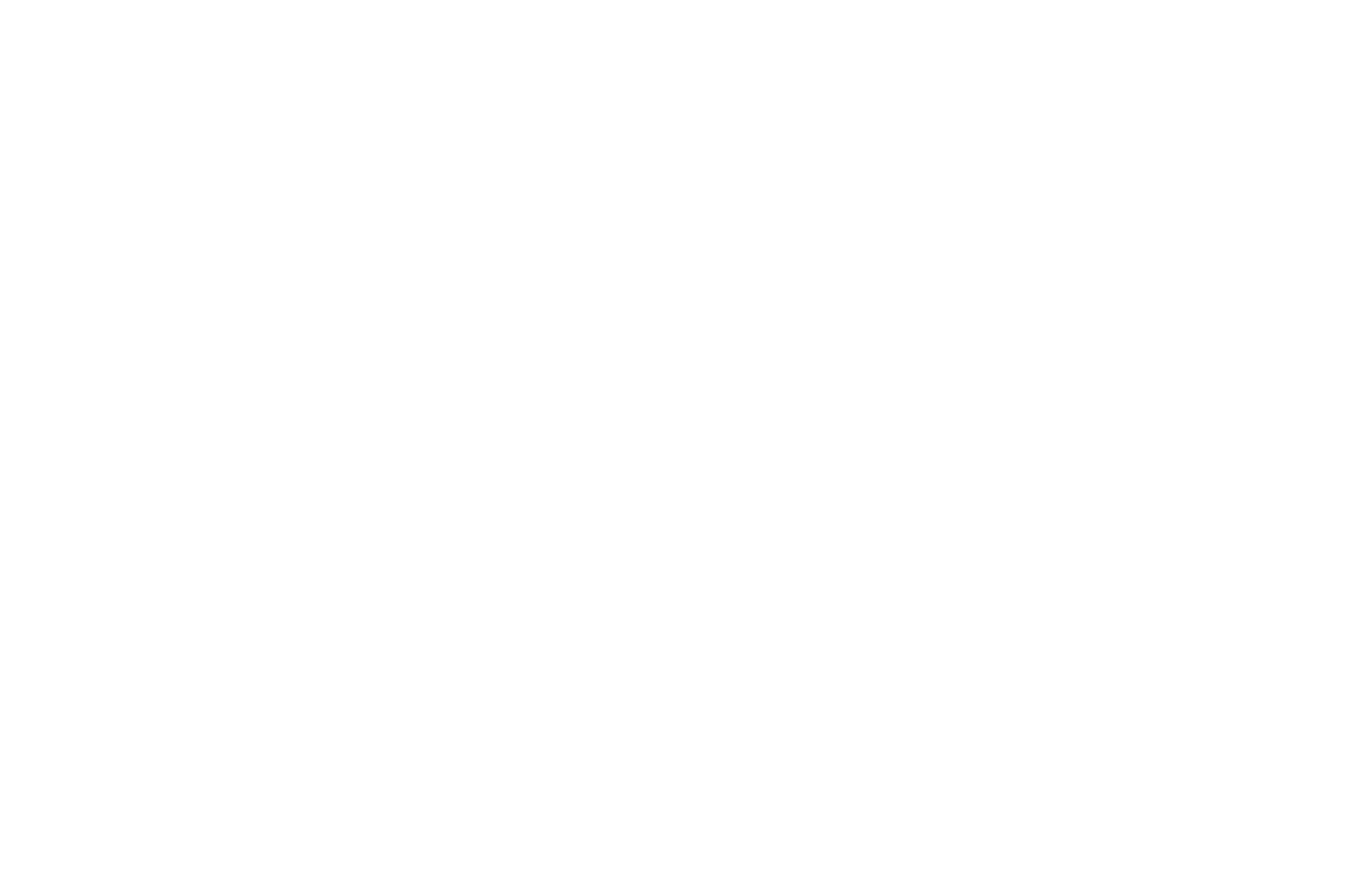
Родословие как миссия
После того как меня списали, наступило время переосмысления. Я всегда интересовался семейной историей — отец, мама и другие родственники рассказывали о предках, но эти истории часто оставались просто разговорами. Тогда я решил начать их фиксировать: стал записывать рассказы, опрашивать родных, собирать фотографии. Скачал программу genery.com и начал вносить туда данные. Увлечение затянуло. Это своего рода кроссворд или судоку. Я стал ездить в архивы, отправлять запросы, изучать архивные документы.
Так мое исследование выросло за рамки семьи — я собрал родословие фактически двух поселков: Таватуя, в котором жили мои предки по отцовской линии, и Мурзинки на Исетском озере. Все таватуйцы и мурзинцы в той или иной степени являются родственниками: на протяжении трехсотлетней истории таватуйские роды и семьи переплелись и породнились между собой.
Начинал изучение с фамилий Зиновьевых, Даринцевых, Маниных. А оказалось, что из 13 таватуйских фамилий, которые сформировались к концу XVIII века и сохраняются до наших дней, имею отношение к десяти. Сейчас в родословии 13 поколений и около 4 200 человек, а в личном архиве — более 3 тысяч документов.
Начинал изучение с фамилий Зиновьевых, Даринцевых, Маниных. А оказалось, что из 13 таватуйских фамилий, которые сформировались к концу XVIII века и сохраняются до наших дней, имею отношение к десяти. Сейчас в родословии 13 поколений и около 4 200 человек, а в личном архиве — более 3 тысяч документов.
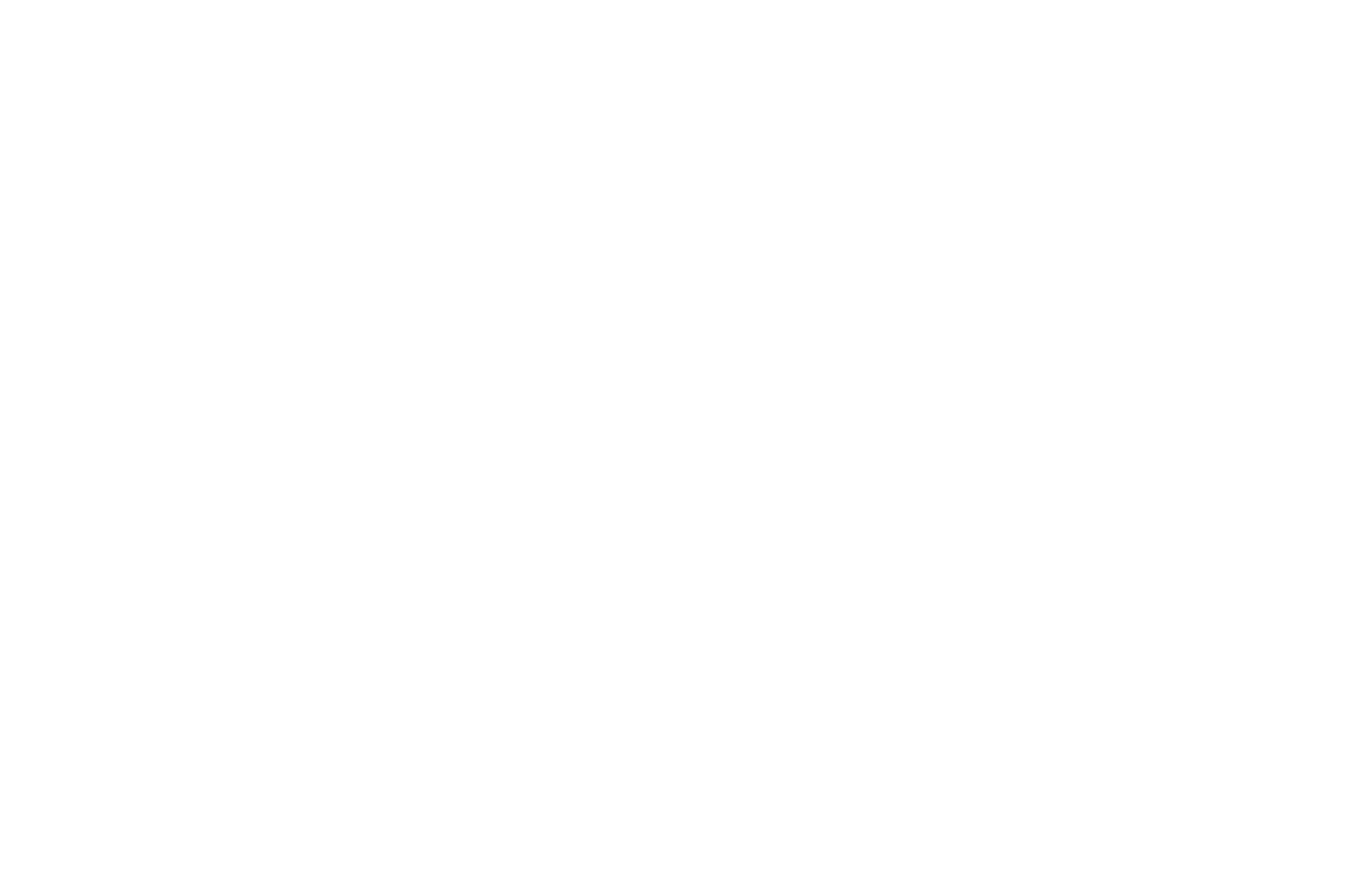
С каждой новой находкой я все острее чувствовал: информацию важно сохранить, чтобы люди знали свои корни. Таватуй сильно изменился за последние 20−25 лет, и мне хотелось рассказать как таватуйцам, так и тем, кто недавно здесь обосновался, как жили здесь старообрядцы поморского согласия — с собственными наставниками, обособленно, но с крепким укладом.
Работая в архивах, я находил ревизские сказки — переписи, введенные Петром I. В Российском государственном архиве древних актов нашел документы по Таватую 1735 года. Когда впервые увидел фамилии Кабаков, Зелютин, Даринцев, Клюкин, Яковлев — ощутил мурашки и эйфорию: это были мои предки.
Работая в архивах, я находил ревизские сказки — переписи, введенные Петром I. В Российском государственном архиве древних актов нашел документы по Таватую 1735 года. Когда впервые увидел фамилии Кабаков, Зелютин, Даринцев, Клюкин, Яковлев — ощутил мурашки и эйфорию: это были мои предки.
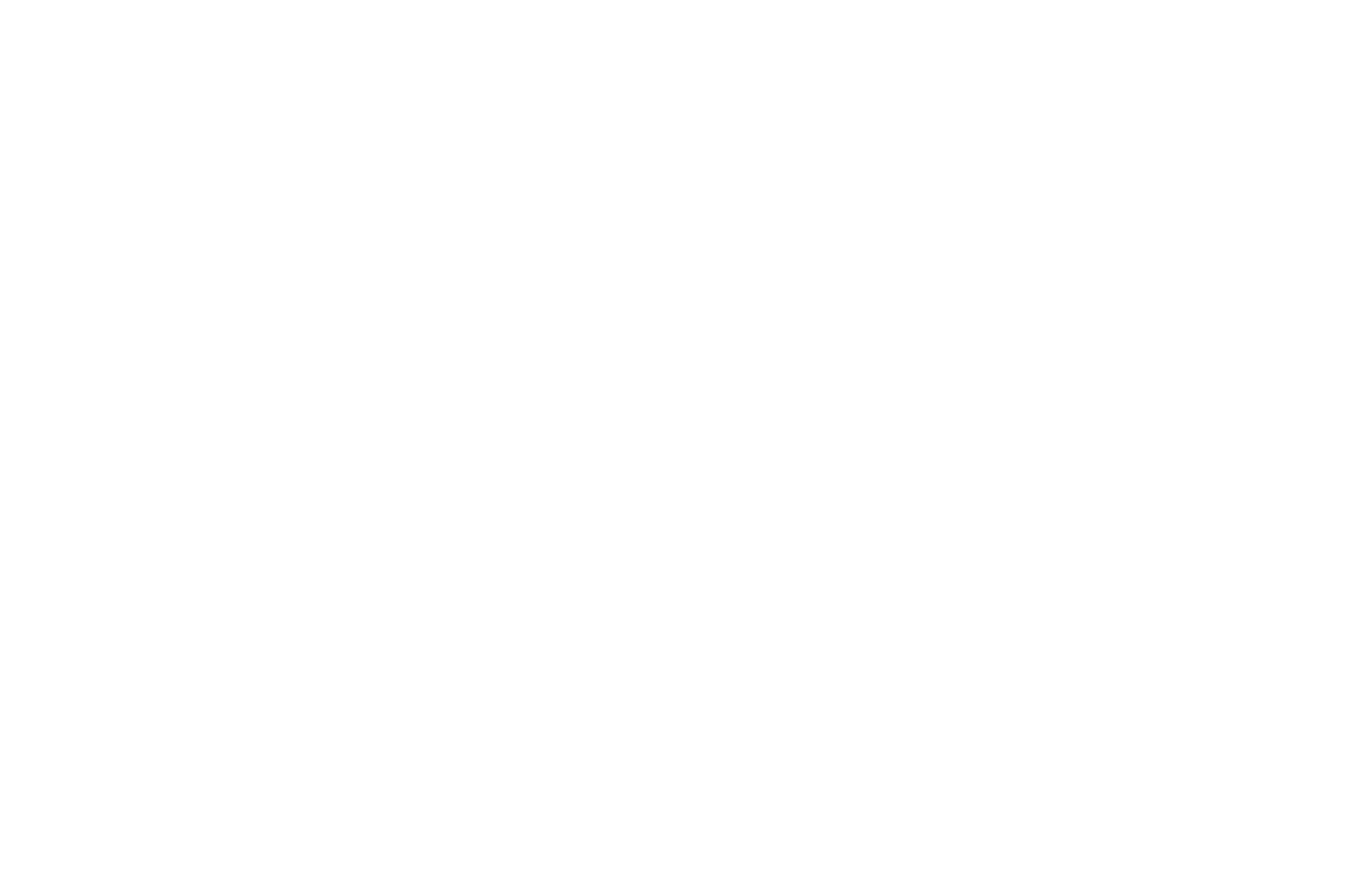
Книга и неожиданные открытия
Мой труд вылился в книгу об истории и родословии поселка Таватуй. Со мной связывались люди из самых разных регионов — от Москвы до Дальнего Востока — в поисках информации о своих предках. И могу сказать, что разбросанные от Лондона до Камчатки фамилии Даринцевых и Зелютиных — это все потомки таватуйских.
Порой я знал об их семьях больше, чем они сами. Так, в семье Кабаковых никто и не догадывался, что их прадед был моряком, окончил торпедную школу, имел грамоты и подвергся репрессиям. Когда я показывал найденные документы и фотографии красавца-моряка, потомки были потрясены.
Порой я знал об их семьях больше, чем они сами. Так, в семье Кабаковых никто и не догадывался, что их прадед был моряком, окончил торпедную школу, имел грамоты и подвергся репрессиям. Когда я показывал найденные документы и фотографии красавца-моряка, потомки были потрясены.
Попадались и редкие находки, например исповедные ведомости, но, так как таватуйцы и мурзинцы были старообрядцами, везде указывалось, что на исповеди не были. Они помогли мне заполнить пробелы перед публикацией книги. Самое сложное — восстанавливать женские линии: фамилии меняются. Порой приходилось догадываться интуитивно и только потом подтверждать документально.
Изучение родословной — это как путешествие во времени. Ты читаешь о людях, живших сто, сто пятьдесят лет назад и более, и понимаешь: они не так далеки. Обычно мы знаем только известных людей, живших 200−300 лет назад, но в архивах встречаешь записи, фамилии, имена людей, предков, за каждым из которых стоит своя уникальная судьба.
Изучение родословной — это как путешествие во времени. Ты читаешь о людях, живших сто, сто пятьдесят лет назад и более, и понимаешь: они не так далеки. Обычно мы знаем только известных людей, живших 200−300 лет назад, но в архивах встречаешь записи, фамилии, имена людей, предков, за каждым из которых стоит своя уникальная судьба.
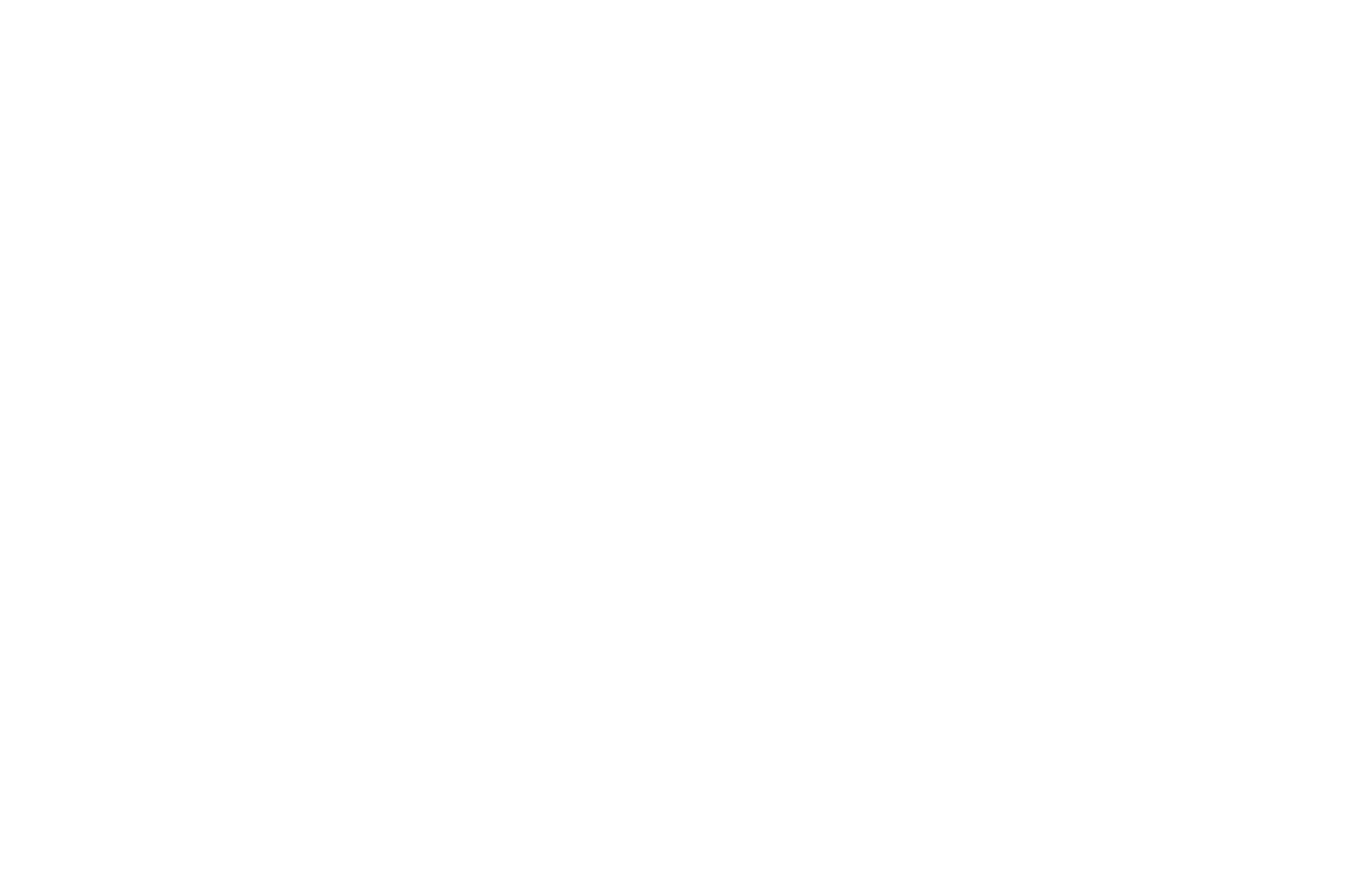
Дерево без корней — просто бревно
Собирать материалы я начал в 2007 году, а книгу подготовил совместно с научным сотрудником УрФУ Алексеем Поповичем почти за год — она вышла в 2022 году. Издательство Уральского университета (УрФУ) получило диплом за выпуск моей книги о таватуйцах.
Есть желание выпустить второе издание — дополненное, чтобы за каждой фамилией в родословии была фотография, насколько это возможно, а не просто ФИО, поэтому работа продолжается и сейчас.
Здорово, что сейчас у многих растет интерес к корням. Любое дерево имеет корни — без них оно просто бревно. То же самое с людьми: знание рода дает внутреннюю силу и чувство связи с прошлым.
Есть желание выпустить второе издание — дополненное, чтобы за каждой фамилией в родословии была фотография, насколько это возможно, а не просто ФИО, поэтому работа продолжается и сейчас.
Здорово, что сейчас у многих растет интерес к корням. Любое дерево имеет корни — без них оно просто бревно. То же самое с людьми: знание рода дает внутреннюю силу и чувство связи с прошлым.
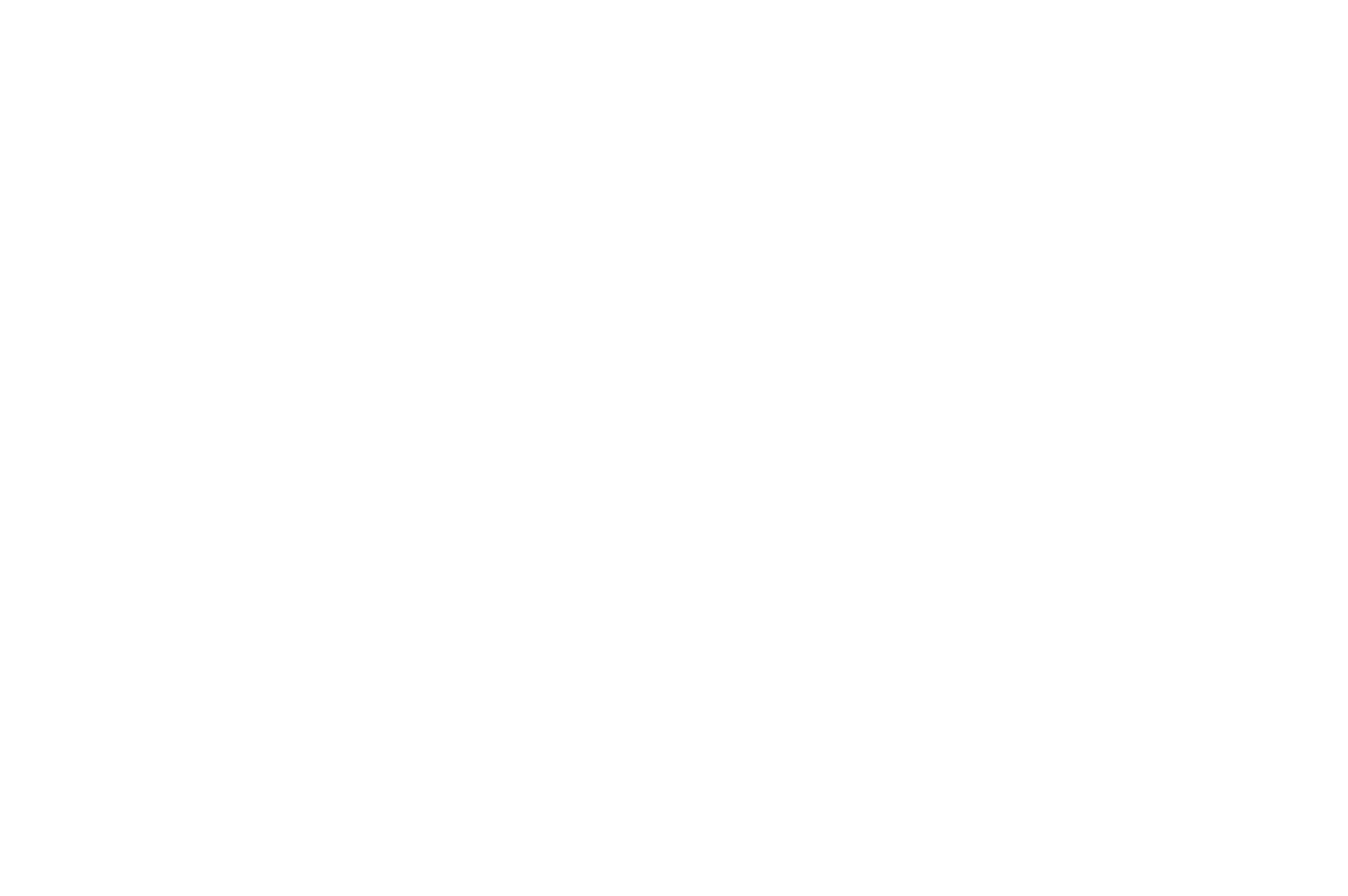
Тем, кто только начинает изучение своей родословной, совет такой: начните с бесед с родственниками, собирайте воспоминания, письма, старые фотографии, обращайте внимание на надписи на обороте. Потом подключайте архивы, музеи, библиотеки.
Иногда важные сведения открываются случайно. В Новоуральском музее я нашел письмо с фронта Виктора Ивановича Даринцева — оно стало ключом к целой ветке семьи. Такие находки помогали устанавливать связи между поколениями, восстанавливать истории репрессий, раскулачивания, судьбы забытых людей.
Иногда важные сведения открываются случайно. В Новоуральском музее я нашел письмо с фронта Виктора Ивановича Даринцева — оно стало ключом к целой ветке семьи. Такие находки помогали устанавливать связи между поколениями, восстанавливать истории репрессий, раскулачивания, судьбы забытых людей.
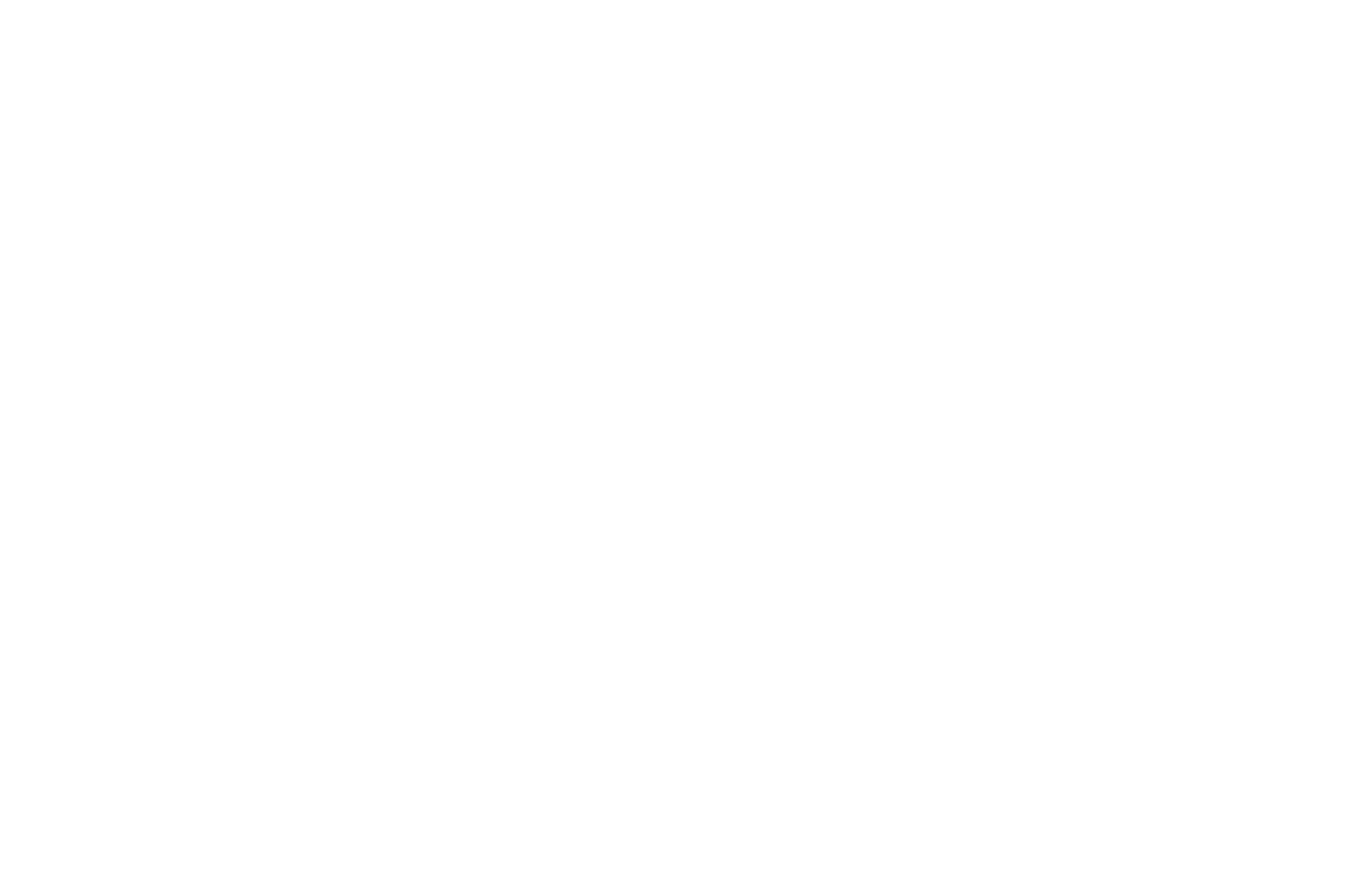
Возрождение значимых мест
Помимо сохранения памяти о предках, вместе с единомышленниками мы восстанавливаем знаковые места Таватуя. К сожалению, от старых достопримечательностей осталось немного: большая их часть была разрушена или распродана. Среди уцелевших — каланча. Землю под ней удалось вернуть старообрядческой общине благодаря одному меценату. А вековой давности колокол, пролежавший 20 лет в огороде у одного жителя поселка, передан общине. Колокол восстановили, сделали язык, подобрав его по звуку. Старая каланча 1936 года оказалась полностью сгнившей, поставили новую — в строительстве участвовали многие жители. Сегодня здесь проходят традиционные таватуйские встречи.
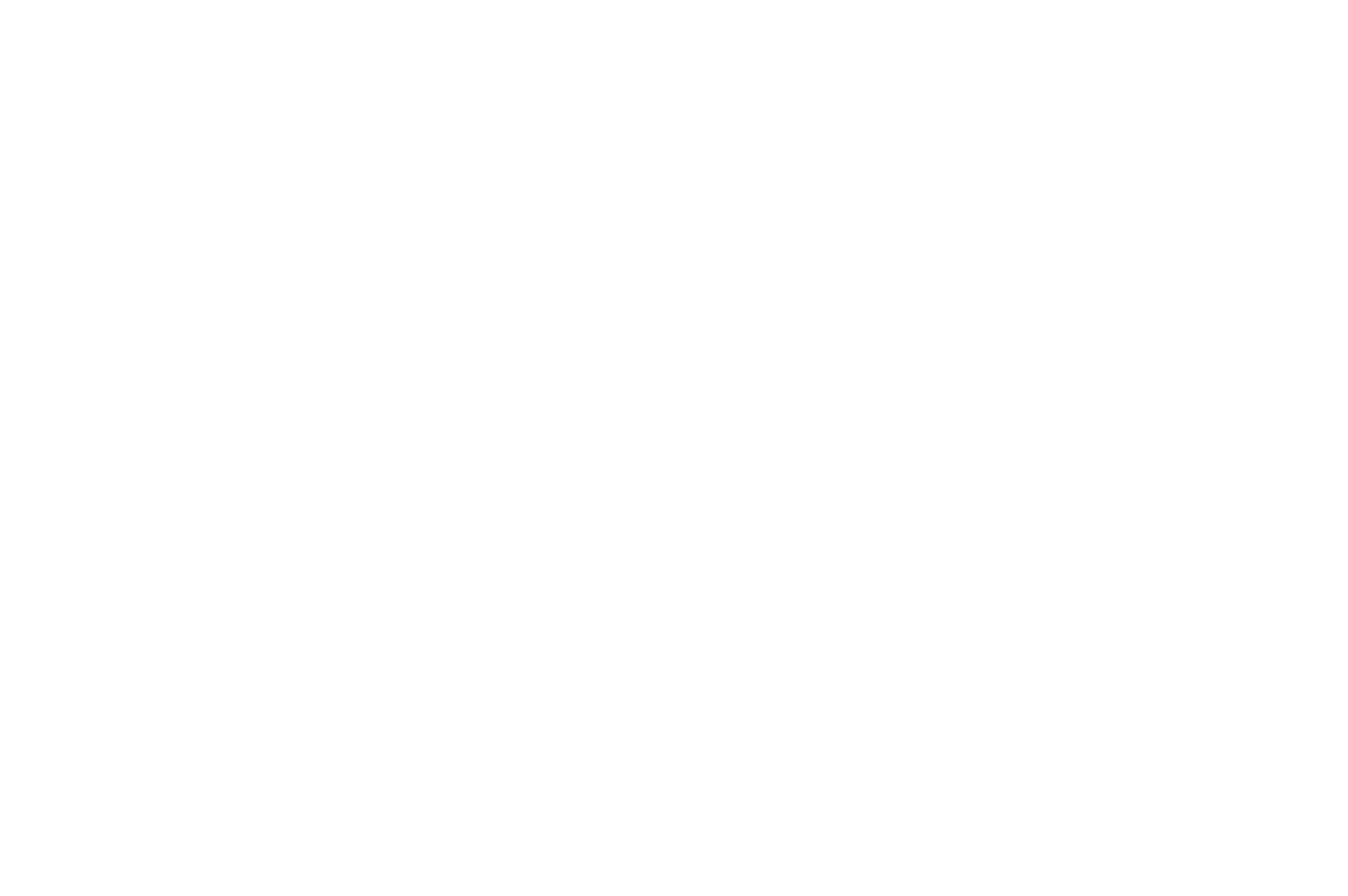
Старообрядческая община в Таватуе жива и сегодня: сюда приезжают верующие из разных городов. На берегу озера сохранилось старообрядческое кладбище, где в 1750 году был похоронен Гавриила Семенов, сын Митрофанов — видный деятель уральского старообрядчества XVIII века, рудознатец, сподвижник и помощник Демидова.
В поселке благодаря неравнодушным жителям есть музей в бывшем фельдшерском пункте, построенном более века назад. Этот дом принадлежал моему прадеду и его брату. После раскулачивания дом национализировали, в советское время он служил административным зданием колхоза, потом медпунктом, а теперь стал музеем.
В поселке благодаря неравнодушным жителям есть музей в бывшем фельдшерском пункте, построенном более века назад. Этот дом принадлежал моему прадеду и его брату. После раскулачивания дом национализировали, в советское время он служил административным зданием колхоза, потом медпунктом, а теперь стал музеем.
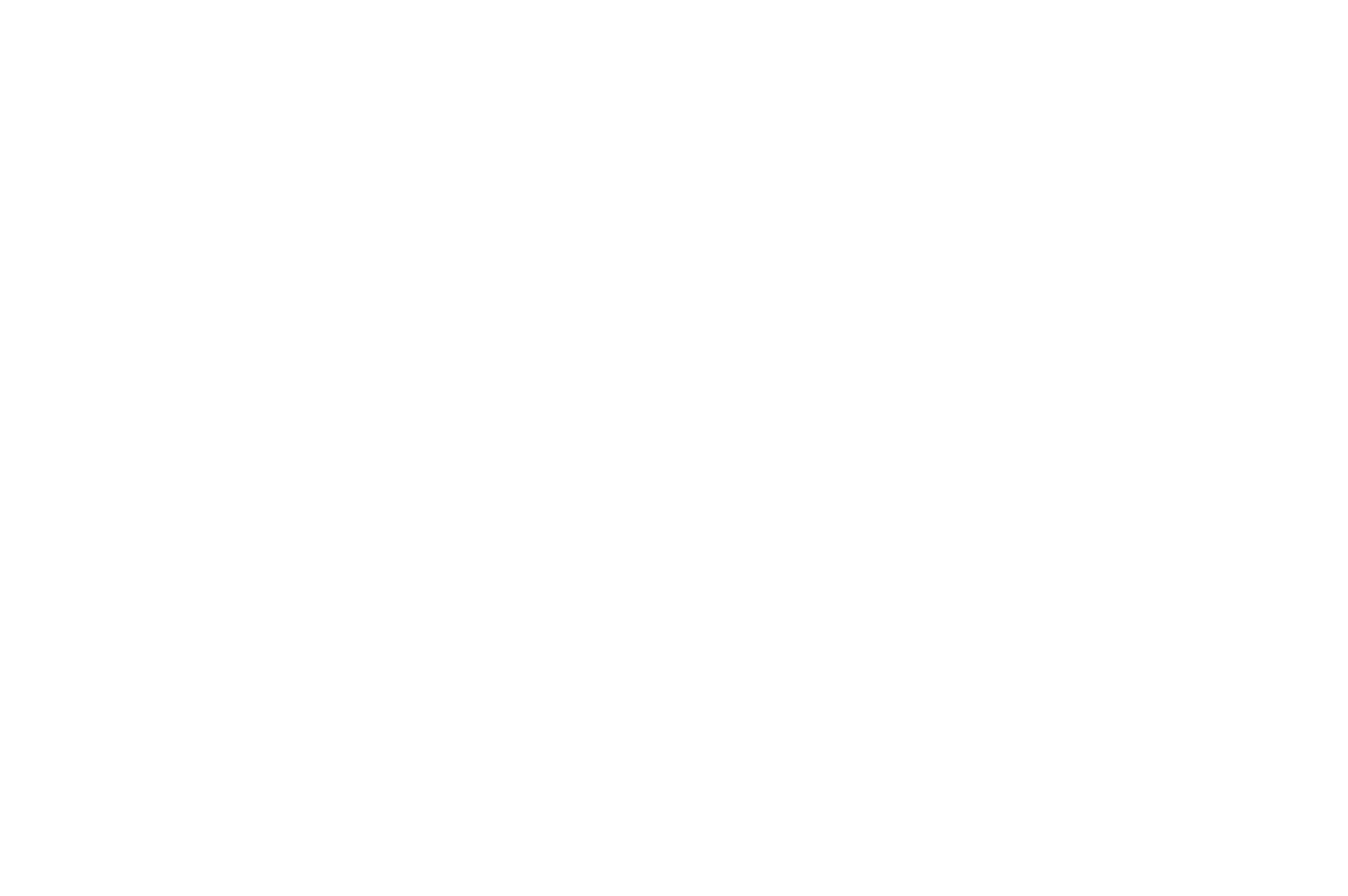
Хранитель семейной памяти и истории уральской авиации
В жизни все переплетено, и мое увлечение родословием как-то само собой находит отражение и в работе. Анализируя, прихожу к выводу, что стараюсь не только сохранить историю семьи и Таватуя, но и задокументировать славные страницы истории развития авиации.
За несколько десятков лет работы я познакомился с множеством замечательных людей — всех помню, для меня на черно-белых фотографиях и полароидных снимках живые люди, судьбы, без которых небесная мозаика не сложилась бы.
За несколько десятков лет работы я познакомился с множеством замечательных людей — всех помню, для меня на черно-белых фотографиях и полароидных снимках живые люди, судьбы, без которых небесная мозаика не сложилась бы.
Наверное, поэтому я с удовольствием вошел в состав рабочей группы по созданию корпоративного музея истории авиакомпании «Уральские авиалинии». Рассказать и вспомнить есть что.
Даты, типы самолетов, новые города и страны, воздушные трассы, знаковые события — мне все это интересно, не хочу, чтобы потерялась какая-то информация, ее бережно сохраняю в музее «Уральских авиалиний». Здесь, кстати, много лично моих экспонатов — советский авиабилет и посадочный талон, например.
Собирая артефакты для музейной экспозиции, смог параллельно собрать информацию и о своих предках. Получается, что хобби находит меня само, и, кажется, это стало делом моей жизни.
Даты, типы самолетов, новые города и страны, воздушные трассы, знаковые события — мне все это интересно, не хочу, чтобы потерялась какая-то информация, ее бережно сохраняю в музее «Уральских авиалиний». Здесь, кстати, много лично моих экспонатов — советский авиабилет и посадочный талон, например.
Собирая артефакты для музейной экспозиции, смог параллельно собрать информацию и о своих предках. Получается, что хобби находит меня само, и, кажется, это стало делом моей жизни.